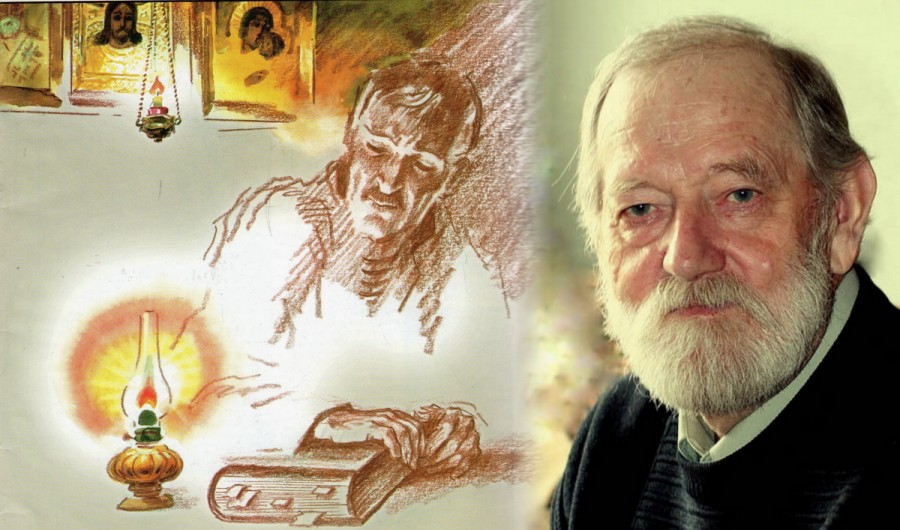Я часто вспоминаю настойчивые слова Ивана Ивановича Евсеенко: "Слава, пишите! Нужно писать обязательно".
На дворе был 1999 год. Он – главный редактор возрожденного воронежского журнала "Подъём", а я – редактор отдела культуры, краеведения и современных проблем. Совсем недавно Евсеенко сформулировал концепцию этого областного издания с максимально возможной для того времени откровенностью и точностью: "Подъём" – журнал русского национального достоинства, которое связано с именами Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого". Либералы передергивали плечами – для них тут аукалось название радикальной организации "Русское национальное единство", которую власть, судя по всему, создала в качестве страшилки для отпугивания всех, кто хоть как-то интересовался русским вопросом. Евсеенко настойчиво повторял свою идейно-концептуальную формулу на всех мероприятиях, в которых редакция журнала принимала участие, и постепенно воронежская публика стала воспринимать эти слова спокойно, без идеологической паники – как нечто должное и классически верное.
К тому времени я "молчал" почти семь лет, хотя в журнале постоянно занимался подготовкой дискуссионных материалов и обсуждений самых разных литературных и общественных тем. А Иван Иванович был верен себе: каждое утро садился за письменный стол и три часа посвящал своей прозе. Он считал, что писатель должен быть постоянно в рабочем творческом состоянии, и когда что-то мешало ему следовать собственному правилу, чувствовал себя неуютно.
Помню, однажды – уже в 2000-х, когда я вплотную занялся литературной критикой, он меня наставлял и упрекал в том, что я мало времени провожу за письменным столом. В свою очередь, я сослался на несовпадение жанров прозы и критики, что вполне определенно сказывается на писательском поведении. Евсеенко меня "не услышал", и тогда я безжалостно указал ему на несходство наших ситуаций: "Вот вы пишете рассказ, повесть, роман, говорите о своих героях, о природе или ещё о чём-то, но всё равно черпаете из себя, то есть о себе пишете в скрытой форме. А мне предлагаете каждое утро погружаться в чужую книгу и заниматься делом не сокровенным: разбирать тексты совершенно не свои, а какого-то дяди. Поэтому рано утром каждый Божий день я в это занятие погружаться не буду, поскольку выбираю не строгую литературную дисциплину, а собственно жизнь". На что Иван Иванович снисходительно ответил: "Нет, Слава, вы выбираете не жизнь, а сон". В этом заключении был весь Евсеенко, построивший свою творческую судьбу с ноля, не нарушавший сложившиеся внутри него законы, но при том – ироничный и обладающий не только острым глазом, но и способностью кратко обозначить то, что ему не очень-то и нравится.
Мои отношения с главным редактором "Подъёма" складывались почти исключительно на работе. Однако их смысловая и житейская полнота была разнообразна, в ней находилось место дискуссии о литературе и философии, разговорам о призвании писателя, шуткам и участливому отношению друг к другу, которое Иван Иванович называл как-то по особенному, со своей интонацией и весомым значением – "товарищеским". Наверное, слово это он благодарно принял от Гоголя – Тарас Бульба не раз упоминал о товариществе. А Гоголь для Евсеенко был фигурой всеобъемлющей. Тут, видимо, сказывалось малороссийское происхождение Николая Васильевича, которое для уроженца Чернигова Ивана Евсеенко оказывалось равносильно землячеству. Такой глубокой любви он, наверное, не испытывал к другим русским литературным классикам, которых ценил всемерно, но имя Гоголя хранилось у него, что называется, под сердцем.
Когда в 1997 году я пришел в редакцию "Подъёма", который только начинал свою новую жизнь, отвернувшись от скандалов и "жареных" материалов, искусительно склоняющих многие издания на путь шумный и короткий, Евсеенко попросил меня подготовить публикацию романа Александра Конаныкина "Проклятые годы". Авторский текст был рыхлым, порой скатывался к "потоку сознания", а само построение внутреннего монолога главного героя Фомы Опискиньша, прибалтийского интеллигента-радикала, напоминало говор иностранца, который испытывает лёгкие трудности в построении фразы на неродном языке. Терпеливо, хотя порой и скрипя зубами, я делил объёмное синтаксическое целое на внятные периоды, имея в виду именно такое происхождение речи центрального персонажа, которое дополнительно окрашивало его ментальность и поведение. Автор, кажется, выстраивал свой текст интуитивно, безо всяких концептуальных подложек, стиль повествования выглядывал из прозаической "руды" непроизвольно, и поэтому моя догадка о чужом сознании, психологии и речи была очень кстати, добавляя изобразительной убедительности произведению автора.
Между тем, поручение главного редактора поработать над рукописью прозы, тем более объёмного романа, было странным для меня – по штатному расписанию, редактора отдела культуры, краеведения и современных проблем. Мой хлеб в сложившихся обстоятельствах – статьи соответствующей тематики, аналитические или эмоциональные, как правило, не посягающие на территорию собственно художественную, где и организация текста и сама фактура слова устроены и окрашены совсем по-другому. И только позднее я понял: Иван Евсеенко проверял меня на литературную пригодность в самых разных жанрах. Об этом он мне не говорил, но взаимопонимание, связанное с уяснением сердцевины того или иного текста, однажды возникнув, потом из наших бесед никогда не исчезало.
Впрочем, Евсеенко частенько любил показать, кто в доме старший по возрасту и литературному опыту. Житейская искушенность в его устах не выглядела демонстративной, скорее, она напоминала советы пожившего и навидавшегося человека, который сведущ не только в писательском ремесле, но и во многих иных вещах, которые сопровождают человека нашего времени в путешествии по жизни. Он мог авторитетно рассуждать, скажем, о ремонте крыши или о живописи, говорить о событиях войны или о государственном значении литературы и писателя. Иногда у нас возникали столкновения, по словам – резкие, но по главному содержанию спора никто из нас не противоречил другому. Как-то я довольно резко высказался о литераторах, которые конвейерным способом пишут свои опусы. Иван Иванович тут же спросил довольно напряжённым голосом: "Почему вы, Слава, так не любите писателей?" В свою очередь, не менее определенно я ответил, что преклоняюсь перед теми авторами, которые не щадят себя в изучении русского мира, и с отвращением отношусь к иным тщеславным и расчетливым сочинителям, которые озабочены только личным самоутверждением. Развивать дискуссию мы не стали, потому что в самой глубине наших запальчивых фраз были тайно согласны друг с другом: писателей необходимо щадить, а самоотдача художника должна быть полной.
Во второй половине редакционного дня, когда у главного редактора уже не было неотложных задач, Евсеенко приходил ко мне в комнату, усаживался в кресло и, наблюдая за моей работой, начинал рассказывать что-то из собственного опыта – литературного или житейского. У меня же почти всегда в таких случаях времени катастрофически не хватало, я слушал его вполуха, отвечая иногда односложно, а порой и жёстко – как человек, которого отвлекают от серьёзного дела.
Однажды я запаковывал бандероли для отправки номеров журнала нашим авторам. Это было важно в качестве обратной связи редакции с писателями, и я сам взялся за подобную черновую работу: если привлек к сотрудничеству с журналом какого-то человека, значит, и удерживать его вблизи "Подъёма" должен именно ты. Почтовую бумагу приходилось клеить конторским клеем, все руки были им измазаны. На столе сохли только что завёрнутые журналы, а я почти автоматически складывал подвороты и клапаны этих почтовых пакетов, которых набралась почти дюжина. Напротив устроился в кресле Иван Иванович и принялся погружать меня в детали очередной истории, которая позже будет им использована в каком-нибудь рассказе или романном эпизоде. Вдруг, он замолчал, а потом авторитетно произнёс: "Вы неправильно заворачиваете бандероли, Слава, всё нужно делать по-другому". Тихо чертыхнувшись, я произнёс: "Давайте я переведу дух, а вы заклеите всё, как надо и по-своему". Евсеенко не обиделся, но замолчал, потом сказал мне какое-то напутствие и оставил меня в покое, удалившись к себе в кабинет.
По житейскому антуражу и языковым вкраплениям проза Ивана Евсеенко может быть отнесена к литературе слобожанщины, но такое впечатление обманчиво. Его повествования являются чисто русскими, а все украинское присутствует в них лишь в качестве потаённой любви к воспоминаниям о черниговском прошлом. Он являл собой тот редкий тип русского художника, который не забывает своё духовное и человеческое происхождение, но понимает себя как фигуру, принадлежащую российской культуре и истории.
Не один раз украинская диаспора в Воронеже пыталась вовлечь Евсеенко в культурно-этнографическую практику, в скрытой форме содержащую элементы осознанного и настойчивого украинства, молчаливо изоляционистского по отношению к русскому бытию и укладу. Но он совершенно определённо отказывался от подобных предложений, в какой-то мере считая их провокационными. Если случится, не приведи Бог, конфликт между Россией и Украиной, – говорил он задолго до военного противостояния, в которое мы погружены сегодня, – украинские структуры в России непременно выступят в роли "пятой колонны". Как в воду глядел... Но при этом его потаённая любовь к малой родине не исчезала, а преображалась, и становилась истинно общерусской – именно такое чувство нежности к Малороссии пронизывает раннюю прозу Гоголя.
Мудрое и ответственное отношение к "украинскому вопросу" Евсеенко обозначил в беседе "Украина или окраина?", которая была опубликована в 2006 году воронежской газетой "Русский формат" и затем разлетелась по интернету. Очень показательно, что уроженец села Займище Черниговской области, Иван Евсеенко сложился как русский писатель, которому никогда не придёт в голову сказать о Зощенко: "Ведь он – украинец?". Так однажды на спецкурсе в Литературном институте у Юрия Томашевского, влюблённого в зощенковскую прозу, с нажимом поинтересовался один мой однокурсник из Киева на рубеже 90-х годов. Иван Иванович всегда подчёркивал, что писатель – человек государственный, и сам был державным художником, который ни за что не променял бы принадлежность к большой родине на местечковую уединенность и эфемерные фантазии ангажированных или доморощенных историков.
Между тем, у него были свои художественные пристрастия, к которым он относился уже привычно и считал их почти бессознательно едва ли не нормативными. Так, он не слишком жаловал постмодернистские повествовательные приёмы, а фантасмагорию воспринимал, пожалуй, только на эпико-народном повествовательном полотне. Спустя годы меня тревожит настойчивая мысль: быть может, он был прав, и незачем "портить" многоцветную и объёмную реальность гротескными картинами, в которых творческий эгоизм автора заслоняет едва уловимый рисунок нашего бытия.
У прозаика Виктора Никитина, с которым Евсеенко в последние годы был дружен, несмотря на принадлежность к разным поколениям, прежде публиковались рассказы и повести, но вот, наконец, завершён роман. Вещь пёстрая, в которой любовь и горечь, чувство жизни и весны сочетались с закатом и распадом советской системы, потерявшей смысл собственного существования. Название Витя дал своему произведению какое-то несуразное, которое не понравилось никому в редакции "Подъёма". Никитин отнёс рукопись на суд Ивану Ивановичу как старшему собрату и главному редактору литературного журнала, а меня позвал на последующее обсуждение. И вот сидим мы с Виктором напротив Евсеенко, он высказывает заслуженные похвалы стилю и языку, осторожно упрекает автора в замысловатой композиции романа, а потом однозначно говорит, что название книги никуда не годится. К этому Никитин был уже готов. Но тут Иван Иванович очень весомо, со значением предлагает: "Думаю, что роман нужно назвать "Символ". Сказать, что Витя Никитин был этим смущен – не сказать ничего: он сошел с лица, кажется, побледнел, и едва ли не начал сползать со стула. Кое-как мы с ним принялись отнекиваться, и обещали найти наименование хорошее, содержательное и соответствующее настроению всей этой истории. Никитина я попросил принести десять вариантов, из которых окончательным лейтмотивом повествования оказалась фраза "Исчезнут, как птицы". Евсеенко сдержанно согласился. Вообще-то он любил повторять, что большую вещь необходимо начинать с названия, тогда сюжет будет выстраиваться органично, потому что образ и мысль, заложенные в его начало, будут пронизывать текст и делать его единым целым. Не всегда удаётся воплотить на деле это пожелание как прозаику, так и критику. Но сам Иван Иванович внутреннему правилу, как будто, следовал неукоснительно. А книжка Вити Никитина после журнальной публикации была издана в Воронеже, и по сей день ее название кажется одним из самых поэтичных в современной городской прозе.
В художественном пространстве Ивана Евсеенко автор всегда видится идеалистом. Всё лучшее, что есть в русском человеке, писатель подчёркивал, сочувствовал этому и старался поддержать своим словом. В романе "Забытое время", отображая советскую эпоху 60-70-х годов, он создал замечательный образ главной героини, в какой-то степени отсылающий читателя к пушкинской Татьяне из "Евгения Онегина". Такая творческая и душевная установка требует от прозаика особенной лиричности слога. И Евсеенко этим свойством обладал – прежде он сочинял стихи и только потом поступил в Литературный институт в семинар прозы Сергея Залыгина.
Он написал много – тут и романы, и повести, и короткие драматические рассказы, воспоминания, литературная публицистика. Кажется, все его произведения были опубликованы в книгах и журналах, размещены в интернете, но порознь или в лучшем случае в виде сборника. Когда видишь россыпь этих изданий на столе, возникает совершенно естественное желание более пристально взглянуть на наследие писателя, представить его в виде строгого собрания сочинений, подготовленного неторопливо и тщательно, с хорошим дизайном. Иван Евсеенко и его художественный мир, несомненно, заслуживают такой судьбы, потому что перед читательским оком – литературная классика трагических десятилетий трудной русской истории.